Расставшись с нами, наблюдатели отправляются по своему маршруту дальше. Ходко идут горные, окантованные стальными полосками лыжи. На таких можно уверенно двигаться по склону, покрытому плотным и скользким настом.
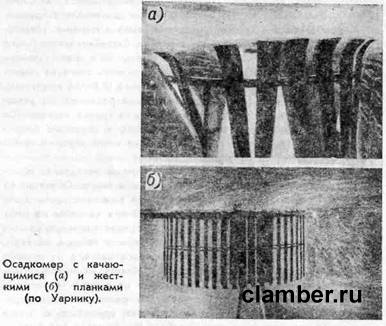
Но вот остановка. Через равные отрезки пути необходимо делать промеры толщины снежного покрова тонким дюралюминиевым щупом, а в каждой десятой точке – измерять плотность снега.
На голубовато-белой стенке шурфа, выкопанного до самой земли, отчетливо видны многочисленные слои – следы давно прошедших снегопадов, метелей, оттепелей, настоящая летопись минувшей зимы. Позже мы вернемся к снежному разрезу и убедимся, как нужна людям заключенная в нем информация не только о прошедших, но и о грядущих событиях. Сейчас же нужно измерить среднюю по всему разрезу плотность снега. Делается это с помощью весового снегомера. Металлический цилиндр с пилообразным краем осторожно вкручивается в снег от поверхности до земли вблизи от стенки шурфа. Маленькой лопаткой закрывают отверстие цилиндра, вынимают его и взвешивают, Для пущего удобства шкала весов разбита так, что отсчет сразу дает запас снега в миллиметрах слоя воды. А после деления его на толщину снежного покрова в месте измерения получают и среднюю по разрезу плотность снега. В последнее время накопление и таяние снега и льда все чаще измеряют в граммах на квадратный сантиметр. Чтобы не копать шурфы, применяют также составной снегомер – свинчивающийся из трех колен длинный цилиндр. Но в твердый снег он входит с трудом.
И опять, как и в случае с осадками, сами измерения элементарно просты. Получение же среднего по бассейну запаса снега чрезвычайно сложно. Убеждаемся в этом, еще раз заглянув в записную книжку наблюдателей. Если плотность снега на маршруте является довольно устойчивой величиной (0,3–0,4 г/куб. см), то цифры, характеризующие толщину, весьма различны. На участке III (рис. на стр. 57) много нулей – здесь на крутых наветренных склонах снега не бывает всю зиму, а рядом, в верховьях ледника,–12 м (IV). Такое распределение запасов снега явно не согласуется с осадками за зиму.
По следам пурги. На следующий день нами овладевает обычное в горах стремление двигаться вперед и выше. Обязательно хочется почему-то достичь господствующей вершины, пусть даже она совсем невысокая. Нас отговаривают. Вчера вечером на небе появились изогнутые перистые облака – предвестники ухудшения погоды. Сейчас небо на северо-западе закрыто темным облаком, над нами оно неопределенного мутно-белого цвета, а на востоке еще кое-где голубеет. Решаем все-таки сбегать на вершину, которая кажется совсем рядом. Однако уже на первой «ступеньке» (рис. на стр. 57, участок V) нас настигают резкие порывы ветра. Выпавший вчера пушистый снег внезапно срывается с места и взмывает вверх стометровым столбом. Он исчезает так быстро, что кажется, будто кто-то одним резким движением сдернул со стола скатерть. Обнажается твердая и скользкая, как полированный мрамор, поверхность старого наста. Нога не оставляет на нем ни малейшего следа. За первым порывом ветра следует второй, третий...
И вот ветер набрасывается уже яростным зверем. Он не дает идти, вонзает в лицо миллионы острых, как осколки стекла, снежинок. Особенно достается глазам. Ведь большинство летящих частиц – это не звездчатые первородные снежинки, выпадение которых мы наблюдали вчера, а их острые обломки.
Подхваченная ветром, звездочка много раз ударяется о землю, сталкивается в полете с другими и дробится в колючую снежную пыль. Ее-то и поднимают вихри на большую высоту, переносит ветер на многие километры. Воздух становится мутным и видимость резко ухудшается.
Все бело вокруг, ни земли, ни неба. Поворачиваем назад.
У края плато ветер гонит нас с такой силой, что мы сначала бежим против своей воли, а потом падаем, хотя уж лучше бы бежать. А ветер катит нас по склону, покрытому жестким настом.
В нижней части склона мы застреваем в рыхлом снегу. Ветер здесь значительно слабее. А поскольку масса переносимого во время метели снега определяется энергией ветра (точнее, энергией воздушных вихрей), то у подножия склона оседает та часть снега, которую ослабевший ветер уже не в силах переносить. Однако дальше к востоку он снова набирает скорость и поднимает снег с земли. В этой зоне (VI на стр. 57), называемой зоной разгона метели, снежный покров настолько тонок, что местами даже чернеет земля. Ветер работает над снегом, как скульптор, вытачивает острые чешуи – заструги и пологие ложбины между ними. А дальше воздушный поток вновь насыщается снегом и вновь разгружается от него в зоне ветрового затишья. И так повторяется много раз.
Спустившись с верхнего плато, мы бредем дальше. Один из нас спотыкается о какой-то длинный узкий снежный выступ. Это лыжня, но она похожа на два железнодорожных рельса. Прошедший когда-то лыжник уплотнил снег, и теперь он еще удерживается на месте, хотя окружающий более рыхлый слой уже унесен ветром. Хватаемся за эту ариаднову нить и уже не выпускаем ее из вида. Вскоре раздаются выстрелы, и сквозь метель тускло просвечивают ракеты. Еще немного, и нас встречают обеспокоенные нашим опозданием обитатели метеостанции.
