Летом на леднике. На ледниках – власть холода. Даже летом там нередки морозы и жестокие метели. Но бывает, что и «нормальный летний дождь» прольется на белые шлемы гор. Вода, настоящая жидкая вода, обрушивается тогда на воду, превращенную морозом в камень. Побеждает вода живая, подвижная, теплая.
Отправимся вместе с гляциологами в ледяной пояс гор на Алайском хребте, туда, где рождается река Сох, хорошо известная жителям Ферганской долины. По выходе на равнину вся вода Соха разбирается на орошение, и на карте видно, что река как бы размочаливается: от ее русла в разные стороны отходят искусственные каналы, доставляющие воду полям и садам. Низовья Соха так и называют веером.
...Лето 1964 г. было необычно влажным для этих мест. Три-четыре дождя, выпавших в первой половине июля, размыли в некоторых местах тропу, проходящую по дикому ущелью верхнего Соха. Эта вьючная тропа, «уложенная» на полочку, выбитую в отвесной скале каменотесами еще в незапамятные времена, больше всего на свете «боялась» дождя, который превращал в бешеные потоки грязи и камней узкие ленточки водопадов и ручейков, сочившихся по скалам с километровой высоты. Наш караван шел по тропе как раз после большого дождя, и тропа, и без того узкая и опасная, иногда совсем исчезала под наносами камне-грязевых потоков. Ишаки останавливались, не зная, куда ступить; мы их развьючивали, перетаскивали зеленые геологические ящики и вьючные тюки, потом с помощью дзух проводников – киргизов переправляли фанатично упиравшихся ишаков через препятствия. Шли дальше. В бесконечной выси свисали малюсенькие ветки арчи, внизу, метрах в двухстах, бушевала стиснутая в ущелье буро-пенная вода Соха.
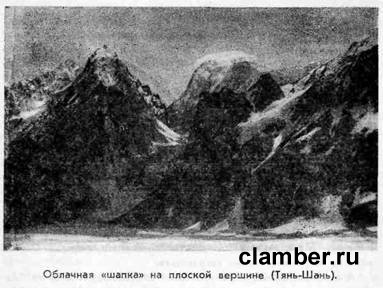
Мы шли туда, откуда начинала свой путь эта силища. Конечно, дожди кое-что прибавили к ней, но не они были главным ее источником.
Сох рождается там, где сходятся в могучем горном узле три гиганта–Туркестанский, Зеравшанский и Алайский хребты. Ледники здесь перехватывают наибольшее количество осадков, снеговая линия спускается очень низко для этой географической широты и ледниковые языки заходят за пределы ледяной зоны, попадают в значительно более теплые условия и, подобно Снегурочке, тают от избытка тепла. Каждое лето стаивает очень много льда, и только благодаря тому, что в верховьях ледников за зиму накапливается избыточное количество снега, ледники эти продолжают существовать. Правда, их языки на протяжении нескольких километров буквально завалены моренными отложениями: валунами, щебенкой, мелкоземом. Кое-где над льдом образовалась даже почва, в которой прижились разнообразные растения.
Путь к Арча-баши – самому крупному леднику, питающему Сох, перегорожен каменистой осыпью и лавинным конусом. Тропа погребена под камнями и снегом. Пришлось разбить лагерь в 4 км от края ледника, у подножия снежника, образованного лавиной.
Несколько месяцев назад многотонная масса снега обрушилась в долину со склона и завалила русло рожденной ледником речки. Но речка пробила в снегу тоннель – снежный мост и сейчас, в самый разгар лета, сохранял достаточную прочность. Лавинный снег, попавший в окружение арчи и пышных кустов дикой розы, совсем неплохо себя чувствовал. Несмотря на горячие лучи солнца и теплый воздух середины лета, он почти не таял. Причина тому простая – его белая поверхность отбрасывала вверх почти все солнечные лучи (больше 80%). Да еще стены ущелья отрезали слишком уж узкий участок неба, в котором солнце появлялось всего часов на пять, а то и на четыре.
К леднику отправились двое: гляциолог и его помощник – коллектор. Около черного и блестящего крутого лба ледника снова начался дождь. Пришлось вернуться, оставив ношу в естественной пещере. Нельзя сказать, что дождь съедал снег – он был не таким уж теплым,– но река заметно вспухла и потемнела после дождя. Вершины же окрестных гор побелели, как будто кто-то плеснул на них из ведра белой краской. Дождь продолжался, и белая граница медленно распространялась вниз. Значит, на какой-то высоте вместо дождя выпадал снег. Там даже в эти теплые дни прегражден путь дождю.
Наутро они снова пошли. На этот раз погода была по-настоящему южная – безоблачная и солнечная. Пять часов продвигались
они по засыпанному мореной языку ледника Арча-баши, подымаясь и спускаясь по ледяным холмам, присыпанным слегка мелкоземом, но льда почти не видели, если не считать крутых, осыпающихся склонов моренных холмов и исполинских котлов с черным от грязи ледяным ядром, в которых кипела и пенилась вода. В верховьях ледника должен быть перевал, через который идет кратчайший путь из Киргизии в Таджикистан.
В 4 часа дня рюкзаки сброшены на леднике, еще не завоеванном мореной. Он был зеленоватым, в черных крапинках грязи, но от него уходила вверх, к перевалу, белоснежная поверхность фирновой области.
Уже через полчаса огромная тень от высоких стен ущелья накрыла весь ледник, кроме самых его верховьев. Тень надвигалась снизу, ее граница была резкой – граница ночи; только на белом седле перевала и, конечно, на венчающих ледник острых пиках лежала еще золотая ткань солнечных лучей. И от этого холодный, никогда не тающий снег казался источником тепла. За границей тени надвигался на ледник холод.
Гляциолог, отправив вниз своего товарища, устроил примерно посередине ледника площадку для наблюдений за температурой и влажностью воздуха на двух уровнях, скоростью ветра, солнечной радиацией. Эти данные помогут рассчитать баланс тепла на поверхности ледника, величину тепла, идущего на таяние льда, на образование стекающей с ледника воды. Совершенно ясно, что роль солнца в этом балансе значительно понижена, так как тени гор сокращают день здесь на 8–10 часов.
Было 4° выше нуля. Сверху задул холодный ветер, а снизу поползли облака. Только забрался гляциолог в свое самодельное убежище из камней, скрючился в спальном мешке и натянул над головой брезент, как пошел дождь. Частые капли застучали по брезенту. Дождь разговаривал с ледниками и камнями морены. Человек был чужим, инородным телом здесь. Спальный мешок мог защитить от холода, но не от дождя. Очень скоро вода стала проникать в него, и пришлось пожалеть о том, что слишком далеко граница питания ледника, выше которой на ледник падают уже колючие изломанные ветром снежинки.
Утром на леднике можно было видеть четкую линию, разделявшую казалось бы два разных ледника. И там и здесь был лед, наверху ослепительно белый от снега, внизу – черный от потоков грязи, стекавших в русла ледниковых рек. Теперь как бы ярко ни светило солнце, снег наверху растает нескоро; ледник там надежно защищен этим снегом. В нижней части ледника, наоборот, дождь смыл слой относительно белого, разрыхленного солнечными лучами льда и обнажил грязь, скопившуюся на дне ледниковых стаканов. Грязь сделала его более восприимчивым к солнечному теплу. Не будь дождя, таяние началось бы не раньше полудня, когда солнце соизволит появиться на узкой полосе неба между скалами. Как правило, солнечным лучам приходится начинать с растапливания образовавшейся за ночь ледяной корки. Дождь размыл эту корку, подготовил солнцу гладкую поверхность. Ее таяние пошло энергичнее, чем обычно.
